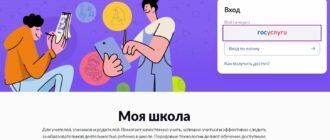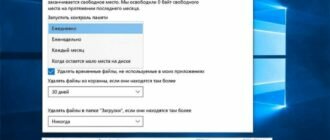[Значит, Ленинград, холостая жизнь — я долго был холостяком, Райкин, эти все скитания… Ну, с Райкиным это не скитания, это праздничные поездки, но все равно, знаете ли… Ну, я получил квартиру от него, однокомнатную, в Ульянке. Ульянка — это пустырь, далеко, часа полтора на такси. Да-да-да, причем это при слабом движении, в те годы. Значит, вот, приезжаешь туда — пустырь, особенно белые ночи, я стою на пустыре, окруженный девятиэтажными домами, огромный пустырь, в одном из домов моя квартира. Вот стою я на пустыре, любуюсь — это небо розовое, белые ночи, красота! Никого, ночь, стою, просто мне приятно. Никого, и вдруг мне кто-то стучит в спину: «Разрешите пройти?». Я отодвигаюсь, там человек, очень интеллигентный. Но в драбадан. Он не может свернуть.]
Холостой. Ленинград. Все делал вкусно. [У меня же жизнь — в трех томах: Одесса, Ленинград и Москва. Я думаю, самый нежный, самый толковый, самый учебный, самый возвышающий для меня период — это питерский. Потом я уже расходовал то, что я накопил. То, что накопил в Одессе, на родной земле возле моря, где я еще продолжаю бывать, то, что я накопил в Ленинграде, это Товстоногов, это Райкин, это все вместе. Ты приехал, и они тебя оценили, и ты с ними. В Москве, конечно, это распродажа всего, что я накопил. Вот как приехал в Осло показать, что я накопил. Хотя, посмотреть то, что вы здесь натворили, и что я накопил.]
Значит, мой день. Холостой. Ленинград. Все делал вкусно. [Однокомнатная квартира. Улица Стойкости, 19, квартира 87. Ну, я ее называю улица Терпимости. Пока телефон поставили… Ну, Георгий Александрович Товстоногов хлопотал, как депутат, поставили телефон.]
Значит, Ленинград. Все делал вкусно. Валяться долго. Приятно. Встал. Вкусно ел чайную колбасу, закусывая ея [Буду читать медленно, это очень вкусно все.] мощным куском круглого белого хлеба, со сливочным маслом, и толстым слоем баклажанной икры из банки. Держал кусок параллельно столу, откусывая ея и продвигая ея вглубь себя. Колбасу брал из блюдечка, клал сверху, запивая ея сладким чаем из огромной керамической чашки.
Затем постепенно начал стирать белье, выжимая ея, распуская ея, пуская фонтаны пены и горячей воды. Выкручивал сильно и красиво. Долго носил жгуты мокрого белья туда-сюда. Повесил на книжный шкаф. Повесил на холодильник. Повесил на радиоприемник. Повесил на абажур. Красиво.
В сырой кухне начал готовить обед. Насек лук. Насек картошки. Избил мясо. Отсыпал перловки. Задумывал суп, в процессе варки понял, что готовлю рагу. Клокочущее, с добавлением вермишели и тушенки и рыбных, моя мамочка, консервов. Очень вкусно. Долго тушил все с луком. Помыл пол тряпкой. Надоело на коленях. Босой ногой, обмотанной в мокрую тряпку, вытирал пыль под диваном, шкафом. Затем вкусно, с удовольствием, макая белый хлеб в рагу, задумчиво поел.
Разобрал телефон. Он, оказывается, не работал. Включил. Он тут же зазвонил. Тут же поломал опять. В этот день ему подчинялось все. В 20:00 с минутами раздался первый звонок в дверь. Начинался вечер. Просидел молча пять звонков и один крик: «Подонок, я знаю, что ты дома!». Ушли с криком и плачем, сверху видел из-за сырого тюля. Вторые звонки переждал, открыл третьим, это оказались первые пять звонков. Перехитрили и заночевали. Утром громыхали, будили тревожным ароматом кофе, омлетом и заключительным дверным щелчком. Слава богу, он безработных не любил. Белье засохло в форме холодильника, омлет застыл в форме сковороды. Благодаря огромному таланту на работу не нужно было к восьми утра, поэтому вышел к девятнадцати, куда и прибыл с легким праздничным опозданием.