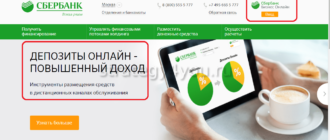Одесса — удивительно несерьёзный город. Здесь странным образом переплелись её история и её действительность, её литература и её косноязычие. Причём, все они вышли из одесских квартир, прошли школу мужества в одесских дворах и набили руку и шишки на одесских улицах. Эдуард Фукс со своей «Историей нравов», если бы приехал в Одессу, тут же густо покраснел и тотчас вернулся в свой Берлин, чтобы страшно извиниться перед почитателями европейских нравов, ибо тамошние нравы не могли идти ни в какое сравнение с одесскими.

В одесском дворике
Сколько-то лет назад автор этих строк совместно с редакцией нашей газеты придумал игру, которую мы назвали «Легенды Одессы» и сделали рубрикой. Но читатели «Одесской жизни», будучи типичными одесситами, не вдаваясь в нюансы языка, периодически задают автору вопрос: «А ты кто такой?». Ладно, вот вам пару слов о себе. Хотя как может одессит отделять себя от своего города?! Однако чувствую, что два надвигающихся праздника — День рождения Одессы и начало школьного года — отредактируют эти воспоминания.
Школа нашего мужества
Я жил и рос в нормальном одесском доме с нейтральным номером 14 по переулку Нечипоренко. Кто такой или такая было это Нечипоренко, конечно, не знал никто, потому что все называли этот переулок Авчинниковским. А вот, кто такой купец Авчинников, здесь помнили, и через 40 лет после известных октябрьских разборок с Авчинниковыми, и держали купца за серьёзного, делового человека.

Я учился в нейтральной школе с нормальным номером 92, стоявшей на углу Александровского проспекта и улицы, слава богу, снова Успенской. Она, дававшая мне положенное среднее образование, ничем, кроме своих крепких хулиганских нравов, не отличалась. Справиться с моим классом в 52 ученика могла только наша классная руководительница Валентина Степановна. Увы, у неё не было одной ноги, так что она ходила, ловко орудуя почему-то всего одним костылём. Этот костыль и летел во время классного часа над нашими головами и попадал в точно заданную акваторию класса, где сидел очередной виновник вспышки её гнева. И, не дай бог, если через секунду, счастливый от выпавшей прямо на его голову чести, тот не доставлял это вещественное дополнение к системе Макаренко в руки стоявшей в этот момент на одной ноге Валентине. Было таки что послушать из уст опытного педагога-словесника.

Трудовое воспитание в школе
В эти минуты мы представляли, как ворочается в гробу Михаил Иглицкий, строивший когда-то это здание как идеальную гимназию для сильно одарённых еврейских детей. В пятидесятые годы ХХ века на смену сильно одарённым пришли мы, и без ложной скромности скажу: это была большая разница. И всё равно наша Валентина была спасением для школы. Потому что учителя-мужчины не были способны подняться в области педагогики до таких высот. Просто не были созданы для этого.
Свой домашний шпион
Черчение в нас вбивал весёлый, чуть лысеющий и сильно интеллигентный Сергей Алексеевич Габис, подозрительно похожий на мудреца Махатму Ганди только без усов. По тому, с каким азартом в прокрустовом ложе урока он все геометрические построения сводил к фортификационным изыскам находчивых одесситов в героическую Крымскую кампанию 1854 года, мы быстро высчитали, что Габис — это, скорее всего, и есть тот Сигабин, который написал прелестную, очень одесскую книгу «Прапорщик Щёголев». Сергей Алексеевич своё авторство всегда отрицал, но его кокетливые отнекивания ему не помогли. Приговор был суров: это он прославил отважного прапорщика и его батарею, которые не допустили оккупации Одессы англо-французской эскадрой в лихую годину.
Михаил Иглицкий, основатель гимназии
Учителем труда у нас был непростительно молодой и столь же непростительно рыжий высокий еврейский парень, которого называть Аркадием Львовичем язык просто не поворачивался. Поэтому в минуты задушевного трёпа (а чем ещё заниматься на уроке типично одесского труда в типично одесской школе?) мы обращались к нему непредусмотренным школьной этикой обращением — Аркаша. Его это не радовало, но и не трогало. Просто, видимо, наглость нашего панибратства не вписывалась в круг его интересов. Если на уроке выпадала свободная минутка, он уединялся в тени тисков и что-то перекладывал в своих бумагах, которые приносил из дому в толстой папке.
Реклама гимназии Иглицкого
Я, может быть, единственный, кто знал, что в той папке укрывалось. Мы с Аркадием Львовичем жили в одном дворе, и окна моей мансарды, где с утра до ночи мы с пацанами резались в настольный теннис, смотрели прямо в окна его квартиры, где тоже с утра до ночи, особенно по выходным, не гас свет. Я часто видел Аркадия Львовича склонившимся над письменным столом. За его спиной возвышались стеллажи с золотообрезным Брокгаузом и Ефроном. Чем он там занимался, было загадкой для всего дома. И если эта загадка остальных соседей, считавших, что от «своих» что-то скрывать некрасиво, просто интриговала, то одного соседа она накаляла. Это был ветеран 3-го этажа дядя Боря, в своё время уволенный из органов с официальной формулировкой «за неправильное понимание задач организации», что неофициально означало — «за беспросветную глупость».
Но однажды у дяди Бори чуть не случился праздник. Его бывшие коллеги, сотрудники госбезопасности, ловили в нашем дворе взаправдашнего шпиона, и именно в той парадной, где жил Аркадий. Дядя Боря даже достал из шкафа свой поеденный молью китель, чтобы где надо дать правдивые показания о негаснущем допоздна аркашином окне. Но случился не праздник, а почти инфаркт: утром Аркадий как ни в чём не бывало появился у дворового крана, традиционно почистил об его металлическую ванну туфли, за что тут же выслушал от дворника с загадочным прозвищем Шурум-Бурум традиционную речь в защиту крана и гигиены. Эта речь и сам Аркадий так расстроили дядю Борю, мечтавшего чтобы у нас, в Авчинниковском, 14, появился свой шпион, что он целый месяц не снимал китель, так что именно в нём дядю Борю увезли в специальную больницу на Слободку. Но жильцы дома рассудили это философски: в конце концов, так ли это принципиально появился у нас свой шпион или свой сумасшедший.
Блеск и нищета мадам Малой
И вдруг в неимоверно дефицитной в те годы газете «Неделя» появились истории про какой-то удивительный одесский двор, про его форпост, про уполномоченную ОСОВИАХИМа товарищ Малую, про дворника Шурум-Бурума, перекочевавшие позднее на страницы великолепного романа «Двор». Тогда наше теннисное братство первым догадалось, что литературная Малая — это и есть та мадам Малая, что живёт через две двери от моей квартиры. Кстати, это разъяснило, почему она всегда только ногой открывала дверь в нашу проходную кухню и вечно учила мою бабушку, как жарить «анчаусы», чтоб подсолнечное масло не брызгало, как скаженное, по всему потолку.
— От вашего масла такое амбре, что все думают, что это пожар. Вы дождётесь, что сюда сбежится весь дом вроде полюбоваться пожаром, а на самом деле попробовать вашу рыбу. Попомните моё слово: они не уйдут, пока не съедят всю сковородку, может быть, даже вместе со сковородкой.
И в тот момент газета с рассказом «Уполномоченная ОСОВИАХИМа» была главным аргументом в её руках, которым она размахивала и стучала по столу, чтобы усилить эффект от её кулинарных уроков.
Вот тогда всем стало ясно, что этот хитрец Аркаша никакой не шпион, а великий русский писатель (как пишет энциклопедия «Википедия») Аркадий Львов, почему-то скрывший от союзного и мирового читателя свою неординарную одесскую фамилию Бинштейн.
Писатель Аркадий Львов (Аркадий Львович Бинштейн)
Но что особенно необъяснимо: после этих публикаций в «Неделе» популярным в нашем доме стал не он, а всё-таки мадам Малая. Хотя уже и тогда её авторитету было тесно в рамках нашего двора.
Держаться, и не стать другой!
Да, Одесса — удивительно неординарный город. Здесь приятно жить всем, кроме писателей (может быть, поэтому они и уезжают кто-куда, даже в далёкую Америку), потому что здесь нельзя ничего придумать — уже всё придумала Одесса. Кстати, так поступил и мой бывший сосед Аркадий Львов, подаривший перед отъездом очерк «Одесские катакомбы». Ему тоже было непросто. Какие тайны катакомб он мог открыть, если в нашем дворе их знал каждый ребёнок?! Так ведь прямо напротив аркашиной парадной был вход в подвалы, которые уходили в глубину и вели бог знает куда. А тут ещё однажды ночью прямо напротив нашего дома под землю провалился «Москвич», синюю крышу которого лично я, идя утром в школу, видел в глубине провала и слышал оттуда смех двух пьяных баб. Когда днём я возвращался домой после уроков, яма была уже пуста. А уже известная мадам Малая, хорошо поинформированная в таких делах, по секрету рассказывала моей бабушке, что никакие спасатели ещё не приезжали (прошло всего восемь часов — какие спасатели ездят в Одессе так быстро), но тот синий «Москвич», из которого доносился пьяный женский смех, видели через пару часов в Аркадии. Вот что вдохновило А. Львова на очерк, а ребят нашего двора на дискуссию: значит, это таки катакомбы, и по ним можно добраться прямо в Аркадию, хотя не решённым оставался вопрос: где взять двух пьяных баб, которые покажут туда дорогу в лабиринте катакомб.
Валентин Крапива, 1960-е
Да, такой была Одесса во времена моей юности, и не дай бог ей стать другой!