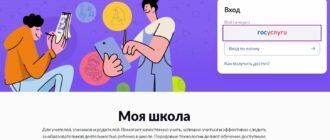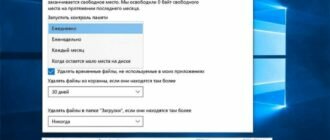22 ноября на торжественной церемонии в Новой Третьяковке были объявлены победители премии «Сделано в России 2017» журнала «Сноб». Дмитрий Быков с романом «Июнь» был признан экспертным жюри писателем года. Мы рады представить читателям «Учительской газеты» очерк Дмитрия Быкова о том, чему он сам, много лет преподающий литературу в школе, научился у своих учеников. Публикуем эссе с согласия редакции «Дружины Народовой», где оно появляется впервые.
Мои ученики научили меня трем важным вещам, которым я не мог научиться самостоятельно из-за моего советского образования и связанного с ним всеобщего гнета: во-первых, они научили меня не стыдиться себя. Филологи и писцы — особенно в моем детстве — существа дикие и причудливые. Я слишком долго думал, что я плохой парень, а когда понял, что так оно и есть, было слишком поздно что-то менять. Так, хотя и с большим опозданием, лучшие из моих учеников научили меня быть уверенным (без высокомерия) в собственной праведности. Или, по крайней мере, я сейчас ни в чем не виноват.Во-вторых, это новое поколение — те, кому сейчас от 15 до 25 лет — дали мне понять, что образование важнее навязчивого образования, что любая информация на пустом месте — лучше усвоил, что честнее не знать (и хотеть знать), чем ликовать от отвращения. Сегодняшние школьники лучше понимают, откуда брать информацию, и быстрее забывают ее, когда она становится ненужной.И в-третьих, я пришел к выводу, что любовь, которой я придавала такое большое значение в их годы, не так важна, как сопереживание и понимание. Любовь очень часто является похотью, но сострадание и одиночество являются высшими формами отношений. Боюсь, я не могу этого объяснить, но, глядя на их любовные похождения — хотя и довольно чистые, потому что секс — не главная их забота, но он стал доступнее и легче — я, должно быть, научился избегать тантр в любви и ценить то, что является человеком, а не животным. И это не возраст, хотя, к сожалению, а нормальный процесс обучения у здоровых людей, для которых кровать перестала быть тренировочной площадкой, а стала местом особо открытого общения. Как сказал Кушнер, «разговор продолжается на новом и лучшем языке». Июнь. — М.: АСТ: Под редакцией Елены Шубиной, 2017. — 510 с…. Автор «Июня» — инопланетянин, как уверяет Набоков, и сам уехал в Америку писать роман о России. Точнее о событиях в Советском Союзе в 1939-1941 гг., хотя и с тайными причинами, а не известными следствиями. Набоков в «Инферно» придумал альтернативный мир, детский сон о «прошлом». То же самое Быков сделал и в отношении «девственной» памяти довоенных лет. Как будто не было архивной волны лекций о репрессиях и допросах, шпионах и предателях, а также реабилитации и амнистии, которая хлынула во время перестройки. Автор не отрицает, что все это было, но в данном случае он не журналист, хотя профессиональный блеск его письма, а в романе о 1930-х годах иногда проскальзывает на современный сленг типа «отсутствующий», но смысловой костяк , конечно, не остается нарушенным. неутомимый словотворец, волшебник и учитель, Быков тоже «прощупывает» мандельштамовскую аналитику («Почему вода на каблуках? Потому что так в реку падает дождь, вся река в хвоях усыпана»), или торжественно философствуя о мелких подробностях буржуазной жизни. Вишневые кости героя — как у Бунина или у Пруста? — они не хотят попасть в мусорное ведро, как герои, держащиеся вместе в трудную минуту. «Надо слепить пельмени» — время превратило благодарный образ в общий лозунг. Хотя в то время уже сложилась общность советских людей, но мандельштамовское «и вся Москва течет в катерах» символизировало не летнюю моду, а сам парад энтузиастов, который во времена, описанные Быковым, уже не заглушал «Шуберта на вода и Моцарт в пении птиц». В общем, роман Быкова — трехголосное полифоническое чудо (оратория, фуга, этюд, если вам нравятся музыкальные градации), которое каждый интерпретирует по-своему. Наверное, в этом и заключается настоящая литература, хотя сам автор и не настаивает, его «проходной» герой, которого можно радостно обнять, вообще не нужен, это просто уловка. Неразборчивый шофер Леня, которого он встречает на пути к финалу всего в двух абзацах во всех трех главах романа, вряд ли скроет свою широкую пролетарскую спину от июньского героя, которого зовут Время. Времена, как известно, меняются, и в нашем случае предвоенное настроение в Москве и ее окрестностях было капризным, но не для автора романа — он не видит известного корня, а только выводит его наружу. Прежде всего, от неизменных, традиционных, «старых» ценностей. «Немцы дворян не тронут», — уверял своего соседа Введенский, послушный поэт. «Когда они придут, мы будем рубить дрова на твоей спине», — ответила она деду автора этих стихов. Как оказалось, все мы знаем, что и в первой, и во второй части романа война оправдана, желательна, к ней приближаются, ее вкушают и чувствуют, к ней призывают всеми фибрами гражданской души. Испания, Чалхин-Гол, Финляндия. Это могло хоть что-то изменить в жизни, в отношении, в кислом настроении. Никто не думал о политической подоплеке, что «Испанию нельзя было сделать шестнадцатой республикой, ее нужно было сделать Финляндией двумя годами позже». Виктор Цой назвал войну не чем иным, как «лекарством от морщин», а Быков объясняет это извечным желанием системы омолодиться. Единственным спасением для системы является широкомасштабная война с кем угодно, и режим неоднократно пытается разжечь такую войну… Война заморозит статус-кво, даст некоторую передышку для неизбежного будущего и даст место для » естественный распад». У одних война вызывает ощущение безнаказанности, как в случае с главным героем первой части, студенткой ИФЛИ, флиртующей с «незамужней вдовой героя», у других всевозможные неудобные вопросы. Например: «почему финны?» Невозможно избежать вопросов, связанных с «проклятым», даже в современных рассказах, не говоря уже о ретроспективе. «Финны не виноваты» — перефразирует донецкий автор, говорящий о зайцах. — Мы все виноваты.Первая часть романа ИФЛИ об отчисленном студенте самая экспериментальная,при всей традиционализме сюжета.Тонально,даже стилистически многое в ней напоминает «Молодую гвардию»,тогда степень пафос зашкаливает, и все сводится к трагикомедии И даже пародии, например о сорокинском постмодернизме, особенно в письмах Марчина Алексеевича из Нормы: «Потому что он не может говорить прямо, только всякая акробатика и хи-хи, и то же самое в поэзии. И даже сказать — пусть обидит некоторых, не беспокойтесь, товарищи, я скажу, что чем больше культуры, всего этого лоска, тем больше в глубине души, товарищи, зверского хамства!» Тем не менее, именно с первой части мы можно многое вывести». социальные «максимумы тех времен. Первый: «хорошо жить беспорядочно, чтобы тебя никто не считал», что неудивительно после шокирующей пятилетки репрессий. Второй — начало осмысления позднейшей антисемитской волны, проявившейся в партийных и правительственных постановлениях уже после войны.То есть стремление найти крайности в иностранце в России никогда не исчезало, не зависело ни от каких войн, а лишь временно исчезало во время пожарище.При этом другие советские классы — от врагов народа до инакомыслящих — не исчезли и поэтому исключенный из института герой, работая помощником в больнице, «относится теперь к рассекреченным элементам, то есть к ненужным, или, если хотите, к вам ч первый». И то, что, главное, «война обязательно придет», в чем убеждены все в романе, от туберкулезника до комсомолки на катке, создает подчас сюжет, а не только слухи и недоразумения. «Раз в семестр Евревич менял концепцию истории русской критики, которую читал вкрадчиво, полушепотом, а в прошлом считался самым эффектным лектором в Москве» — узнаем о довоенном образовании 20. ХХ век — поэты-максималисты, кинематографисты-экспериментаторы. Среди них можно узнать и Павла Когана, и Давида Самойлова, активных создателей эстетики «комиссаров в пыльных касках», деградировавших в позднейшем Сентиментальном марше Окуджавы. Во второй части уже фигурируют «красивые люди с короткой памятью» из репрессированного прошлого, из которых к прототипу романа «Ариадна Эфрон, дочь Марины Цветаевой» добавляется «вечная циркачница в рискованных трико». Зато теперь была «водная Туркмения, квартира для свиданий и потрясающий новый стетоскоп, как у вышеупомянутого донецкого автора». «Дуалистичные люди, палимпсест, у нас одно написано над другим», — объясняет один из персонажей. А в третьей части, своего рода лабораторной конспирации, писатель Крастышевский, в котором можно узнать романиста Зигмунта Кржижановского, сочетает в себе профессионализм «стариков», их тот же страх перед войной, «не трогание» дворянства и желание помочь стране предотвратить катастрофу. Он составляет конспекты, попадающие на стол Сталина, и компилирует их так, чтобы закодировать мир во всем мире, особым образом расставляя буквы и слова. иначе и быть не могло. И именно поэтому воспринимали все вокруг не с точки зрения мироустройства, а с точки зрения благоустройства. «Мы скатились в щель и в удобную щель», — отмечает один из персонажей. Автор Июня возвращает всех к свету Божию.