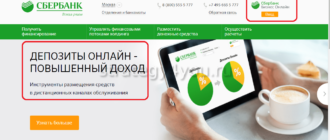Одессу принято называть мамой. Но для девчонки, выросшей на легендарной Молдаванке, Одесса — это бабушки. По фанатичной любви, громкости и даже запаху.

У одесских бабушек достаточно свободного времени и ещё есть силы, чтобы нести легендарные черты и традиции, которые так обожают туристы, собирают краеведы и воспевают эмигранты.
Независимо от национальности они дадут фору любой мамаше по гиперопеке и обожанию. Главное — допустить их к внукам.
Мне повезло — в поздние семидесятые у нас был полный боекомплект — мамина Нила (Неонила) и папина Феня (Агафья). Несмотря на то, что жили они в двух кварталах друг от друга, свахи были абсолютно из разных миров и объединяли их только имена, полученные строго по святкам, отсутствие высшего образования и мы с сестрой. На людях Нила с Феней держали нейтралитет, обращались друг к другу на «вы» и обменивались рецептами, которыми потом никогда не пользовались. В остальное время они просто друг друга игнорировали.
Нила-Неонила
В соревновании на самую любимую бабушку всухую выиграла Нила.
Может, потому что жила с нами. А может, из-за двух её главных особенностей — звонкого крика и вселенского оптимизма. Оптимизма было значительно больше её 120 килограммов. Нила — классическая «клятая» одесситка, дочь жгучей брюнетки-еврейки и местного белокурого люстдорфского немца. Нарушая базовые правила генетики, Нила пошла в папу, сохранив от мамы только бухгалтерские способности и умение договариваться со всеми и всегда. Она убалтывала паспортисток из жэка на справки в неприёмный день, грузчиков универсама на продажу «только что закончившейся колбасы», худую внучку доесть второе ведро манной каши и конечно, упоительно торговалась.

Наш любимый Алексеевский базарчик, обустроенный на месте взорванной в 1930-е годы одноимённой церкви, снесли. Приходилось переться на Привоз. Нила в поцелуйном жесте подавала руку продавцу в мясном ряду: «Смотрите, видите?» Продавец осторожно спрашивал: «Что?». Нила торжествовала: «Как что? «Ролекс»! Золотой! Видите?» Продавец, сгруппировавшись, бубнил: «Нету тут ничего». И Нила парировала: «Ну а раз не видите, тогда шо вы мине говорите цену на биток, как заграничной миллионерше? Или я не местная?»
Голос у неё был мощный, редкое драматическое колоратурное сопрано. За этим голосом в юности бегала пара преподов из консерватории, умоляя подать документы на поступление. Нила ржала: ну какая опера? Кто меня возьмёт? Хотя петь она очень любила, как и пользоваться голосом в воспитательных целях. Своим хрустальным сопрано она регулярно звенела на весь двор.

«Бии-киицер!» — кричала она с кухни так, что на одном конце галереи дед Пава давился портвейном, а на другом — падал с велосипеда Сережка-кугут. — Биикицер вечерять!»
В 7 утра она открывала дверь в комнату и нараспев орала: «Дети в школу собирайтесь — петушок пропел «говно», ой, дааавно!»
По телефону мои одноклассники путали Нилу с третьеклассницей Лесей.
— Привет! Дай списать матешу, — обращался к ней очередной кореш-двоечник.
— Сам решай, мишигинер,— хохотала она в трубку.
«Фроим, Фроим, шо мы строим?» — это она обращается к мне, задумчиво развешивающей капусту по бортам тарелки.
В отличие от шифрованной прабабки, Нила вставляла импровизации на идиш даже на заводских собраниях, мешая их с украинскими поговорками, которыми обогатилась, работая на нефтебазе в Кодыме, самом северном дремучем райцентре Одесской области.
«Азохенвей, и танки наши быстры и наши летчики отважества полны», — перепевала Нила агитационную «броня крепка».
«Ой, нивроку», — обнимала она до хруста и задыхания, рассмотрев мой табель с пятёрками. И, подмигнув, добавляла: «Ну шо, ржачка была? Рассказывай».

Нила вообще хохотала по любому поводу — от дрожжей, брошенных пацанами в дворовой туалет, до моих школьных анекдотов про Гену и Чебурашку. Все исторические события подавались ей как стендап. Про знаменитую «жажду», когда немцы захватили станцию подачи воды в Беляевке, она рассказывала: ой, были такие чистоплотные — умывались раз в день у колодца и зубы можно было не чистить. Вот лафа. Она же вставляла запрещённую политическую прибаутку «это тебе не при румынах» на наши капризы по поводу одинаковых завтраков. При румынах было что есть, но купить одесситам было не за что. Нила встретила войну тринадцатилетним подростком. От голода она научилась грызть лук, как яблоки. Это спасло её и от смерти, и от посягательств оккупантов. Тем более что наш двор на Дальних Мельницах в самом центре Молдаванки облюбовали румыны. Из-за этого Нилу впоследствии не приняли в комсомол. Вспоминая об этом, она смеялась: «Не, ну я поплакала, а потом обрадовалась. Ты не понимаешь в чём гешефт — когда потом добровольно-принудительно сказали вступать в партию, у меня была отмазка: я ж неблагонадёжная, нельзя быть такими доверчивыми, товарищи».
Нила отмахивалась от плохих воспоминаний: «Лучше слушай, как освободили Одессу! Во двор заехал кавалерист-красавец на белом коне, а немцы, отступая, разбили все коллекционные бочки в шустовских подвалах в квартале от нашего двора. Коньяк тёк по улице рекой. Запах был — как духи! Можно было ведром черпать! И черпали с мостовой, чтобы красиво отметить победу».
У хохотушки Нилы хватало скелетов в шкафу. В юности она чудом поступила в техникум, списав у соседа, и через месяц вылетела за неуспеваемость, потому что пропустила в войну пару лет школьной программы. За этот позор прабабка отлучила её от дома и от стола, и Нила месяц жила на воде из дворового крана и хлебе от соседей, пока не нашла работу. От систематического голода произошёл гормональный сбой — из «Кощея Бессметного» Нила за год превратилась в «жиртрест».

Врожденная грамотность и каллиграфический почерк помогли ей устроиться в отдел кадров ближайшего завода, а справку об окончании техникума она подделала, вырезав на картошке штамп для печати. Там она и проработала 35 лет до пенсии. По ночам, после работы, посадив за год зрение до минус шести, она сшивала прозрачной капроновой ниткой украденные мужем заготовки с чулочной фабрики, красила в модный чёрный цвет и продавала на рынке, прячась от дружинников и милиции. Выручку супруг сразу пропивал.
А ещё она таскала деньги из заводской чёрной кассы, чтобы купить нам лучшие на Привозе яблоки и шоколадные конфеты, поэтому до подросткового возраста мы и представить не могли, что живём, мягко говоря, бедно.
Нила была женской версией хита «ты одессит, Мишка, а он не плачет». В любой ситуации — от пьяного деда, поставившего ей фингал, до открывшихся трофических язв на ногах — ей всё было или «Слава Богу», или в особо тяжёлых случаях «До сраки кари очи».

На Фонтанской даче среди грядок клубники торчал кран для полива, уходящий в пятиметровый бетонный колодец. Нила вышла с мисочкой собрать нам «свежатины», и старый деревянный настил не выдержал. Под «бля» второй октавы, которое она держала своим сопрано секунд 40, прибежала мама и посерела: Нила по пояс ушла под землю. Кран к счастью имел колено с изгибом, на котором она чудом удержалась, балансируя на одной ноге. Вторая в идеальном полушпагате лежала в клубнике. Мама металась по огороду — ни мужчин, ни телефона не было… Пока она мучилась — бросить Нилу на трубе и мчаться за помощью к ближайшему ларьку или пытаться соорудить домкрат, — наша бабушка взмахнула над головой руками и, напевая мелодию «умирающего лебедя», покачивая крыльями, попыталась прилечь на ногу.
«Людка, вот всегда хотела быть балериной. Ну шо? Похожа на Плисецкую?»
Мама непроизвольно заржала, размазывая по лицу слёзы.
А Нила добила: «А где гусары с шампанским? Давай я пока репетирую, а ты веди зрителей, а то фуэте уже сильно давит».
Её еле вытащили трое мужиков. Натирая бодягой огромные чёрные синяки на рыхлых руках, Нила подмигнула: «Скажу бабам на работе — была страстная ночь. Тем более что хожу в раскоряку».
Феня-Агафья
Баба Феня была ещё более гротескным и комическим персонажем, чем Нила. В её голове функционировала свалка знаний и впечатлений — три класса сельской школы, работа вагоновожатой на знаменитом 15 номере, идущем до Слободки, труд на трикотажной фабрике и главный источник информации и лайфхаков — советы из отрывного календаря. Позже к ним добавился просмотр латиноамериканских мыльных опер, и тогда её монологи стали окончательно крышесносными и сюрреалистичными, как у Анри Бретона, если бы он мог говорить на суржике.
Феня считала, что кроме неё никто не даст нам правильного женского воспитания и мы точно загнёмся от бытовых тягот. Она регулярно учила всех, включая папу, что для роста волос нужна «мыльна шапочка». Суть процедуры — ложку шампуня полчаса (не меньше) тщательно взбивать на голове. Но для гарантированного результата лучше брать хозяйственное мыло. А для роста груди надо чтобы за неё подержался мальчик. Её саму всего-то разок прихватили — и вот отличный результат налицо. В оладьи полагалось класть «отаку крышечку соды», а вареники лепить величиной с ладонь под девизом «раз, два, три — морду втры».
Феня любила вставлять в речь подхваченные «умные» слова, значение которых понимала смутно. «Отредактыровала тебе карточку ко дню рождения!» — с гордостью говорила она, вручая с букетом тюльпанов из палисадника открытку с жуткими грамматическими ошибками и стихами в стиле «неба-хлеба».
«Нашла в календарном листике отличный рецепт от кашля, пиши: керосин, вазелин, красный перец, короче, всего семь составлентов».
Когда в 1990-е на эстрадном небосклоне появилась Верка Сердючка, я очень расстроилась. Потому что пока мы с сестрой продумывали планы, как прославиться и заработать на монологах бабы Фени, не разругавшись при этом с роднёй, Сердючка просто повторила её манеру общения.

Младшей сестре привезли пианино. Бабушка с торжественным лицом медленно тыкала пальцем по клавишам от «до» до «ля», ударяя ногой по педали. Подождав пока утихнет стон расстроенного инструмента, она вкрадчиво и абсолютно серьёзно интересовалась: «Я правильно подобрала созвучие нот?».
Зато Феня пекла божественные пирожки в промышленном количестве, останавливая мартен только в Великий пост. Набожность в ней отлично уживалась с предрассудками и ритуалами, смысл которых был утерян задолго до изобретения. Сам Хичкок мог бы позаимствовать у Фени пару отличных идей. Никогда не причёсываться на улице — птичка унесёт волосы на гнездо вместе с женским счастьем, и замуж не выйдешь. До 80 лет, увидев ласточку, она начинала тереть лицо со словами: «Ласточка-ласточка, забери моё ластовиння…» Глухие или просто вредные ласточки игнорировали просьбы, и веснушки оставались на весь сезон, чем очень её огорчали. Примета от бабы Фени: «Упала расчёска, подними и поцелуй, а то всрэшься помиж людьмы».
«Ой, разорите семью! Кто на вас женится?!» — причитала она с видом инспектора, достав картофельные шкурки из ведра, чтобы проверить, насколько тонко мы срезали кожуру.

Феня вообще была патологической жадиной. Под столом хранился запас продуктов на случай ядерной бомбардировки, примерно полтонны макарон и крупы. Запасы уже начинали шевелиться под покрывалом от количества мошки, но трогать их было нельзя. Только ежемесячно пополнять, несмотря на то, что стол левитировал на мешках где-то в 15 сантиметрах от пола. Несмотря на немаленькую пенсию, она к ужасу папы периодически совершала набеги на мусорники и гордо приносила нам «трофейные» игрушки.

Но главный её грех в наших глазах был в том, что она сдала папу в интернат. Практически отказалась, когда ему было семь лет. А потом, уже взрослому, запретила жениться на маме. Папа совершил невозможное — мало того что выжил в интернате на 15 копеек в день и стал отличником, ещё и поступил в недосягаемую блатную высшую мореходку и стал яхтсменом с мировым именем. Будущий моряк всегда был завидным женихом, а мама — нищая босячка. Не лучшая партия, тем более что Феня нашла ему в селе дородную невесту с коровой. Сначала она высказала своё неудовольствие, потом писала письма с проклятиями. Не помогло. Неделю караулила под ЗАГСом, чтобы не дать им расписаться. Но в какой-то момент физиология победила, и пока она отлучилась на пять минут в туалет, не подозревающие о засаде родители забежали между соревнованиями поставить подписи. Мама как настоящая дочь Молдаванки помнила что месть — это холодное блюдо. Она молча терпела все обиды и обвинения лет семь, пока сердце Агафии Сергеевны не расплавилось от любви к внучкам, и тогда рассказала нам и об интернате и о росписи. Такого компромата было достаточно, чтобы мы сразу искренне и надолго невзлюбили бабушку. Вскоре сбылась Фенина мечта всей жизни — отдельная квартира. И она переехала из коммуны на Дальницкой в Черноморск, маленький город — спутник Одессы, поэтому виделись мы теперь только по праздникам.

Уже взрослой я узнала настоящую причину нелепой скупости — когда Фене было 15, на её глазах от голода умерли отец и девять младших братьев и сестёр. А маму, которая ушла собирать на поле колоски, она так и не нашла. Без вещей и денег Феня доплелась до дороги и на попутке приехала в Одессу. Рассказывать про Голодомор боялась до конца девяностых. Муж-милиционер, который систематически избивал Феню, по кармической прихоти попал под трамвай на её маршруте, после его гибели денег прокормить двух детей у безграмотной швеи, работавшей в две смены, не было. И младшего, слабого и тихого, она отдала в интернат, а бойкий и шустрый старший вырос во дворе и стал вором-рецидивистом.
Уже давно нет ни Фени, напевающей «я шахтарочка Маруся — чорни бровы я не маю, але не журюся», ни Нилы, затягивающей «У меня есть сердце…»
Такие разные, они оказались невероятно похожи своей живучестью и алогичным всепобеждающим христианско-буддистским пофигизмом к историческим и личным катастрофам. О, как они умели с удовольствием кивать себе в зеркале в любом возрасте и размере, гордиться удачно купленными помидорами, радоваться найденной монетке и снятым с отёкших ног туфлям. Эта невероятная врождённая материнская щедрость и любовь к жизни во всех её проявлениях, наверное, и были тем самым секретом и подарком настоящих одесситок. Кажется, он оказался даже важнее фамильного рецепта гефилте фиш.